Каталог статей
А.И. Солженицын. Крохотки (2)
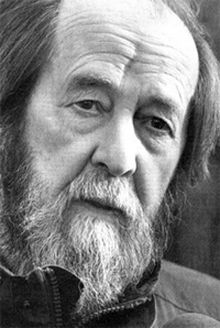 КОСТЁР И МУРАВЬИ
Я бросил в костёр гнилое брёвнышко, недосмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями.
Затрещало бревно, вывалили муравьи и в отчаяньи забегали, забегали поверху и корёжились, сгорая в пламени. Я зацепил брёвнышко и откатил его на край. Теперь муравьи многие спасались — бежали на песок, на сосновые иглы. Но странно: они не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились и — какая-то сила влекла их назад, к покинутой родине! — и были многие такие, кто опять взбегали на горящее брёвнышко, метались по нему и погибали там...
МЫ-ТО НЕ УМРЁМ
А больше всего мы стали бояться мёртвых и смерти.
Если в какой семье смерть, мы стараемся не писать туда, не ходить: что говорить о ней, о смерти, мы не знаем...
Даже стыдным считается называть кладбище как серьёзное что-то. На работе не скажешь: «на воскресник я не могу, мне, мол, моих надо навестить на кладбище». Разве это дело — навещать тех, кто есть не просит?
Перевезти покойника из города в город? — блажь какая, никто под это вагона не даст. И по городу их теперь с оркестром не носят, а быстро прокатывают на грузовике.
Когда-то на кладбищах наших по воскресеньям ходили между могил, пели светло и кадили душистым ладаном. Становилось на сердце примирение, рубец неизбежной смерти не сдавливал его больно. Покойники словно чуть улыбались нам из-под зелёных холмиков: «Ничего!.. Ничего...»
А сейчас, если кладбище держится, то вывеска: «Владельцы могил! Во избежание штрафа убрать прошлогодний мусор!» Но чаще — закатывают их, равняют бульдозерами — под стадионы, под парки культуры.
А ещё есть такие, кто умер за отечество — ну, как тебе или мне ещё придётся. Этим церковь наша отводила прежде день — поминовение воинов, на поле брани убиенных. Англия их поминает в День Маков. Все народы отводят день такой — думать о тех, кто погиб за нас.
А за нас-то — за нас больше всего погибло, но дня такого у нас нет. Если на всех погибших оглядываться — кто кирпичи будет класть? В трёх войнах теряли мы мужей, сыновей, женихов — пропадите, постылые, под деревянной крашеной тумбой, не мешайте нам жить! Мы-то ведь никогда не умрём!
ПРИСТУПАЯ КО ДНЮ
На восходе солнца выбежало тридцать молодых на поляну, расставились вразрядку все лицом к солнцу, и стали нагибаться, приседать, кланяться, ложиться ниц, простирать руки, воздевать руки, запрокидываться с колен. И так — четверть часа.
Издали можно было представить, что они молятся.
Никого в наше время не удивляет, что человек каждодневно служит терпеливо и внимательно телу своему.
Но оскорблены были бы, если бы так служил он своему духу.
Нет, это не молитва. Это — зарядка.
МОЛИТВА
Как легко мне жить с Тобой, Господи!
Как легко мне верить в Тебя!
Когда расступается в недоумении
или сникает ум мой,
когда умнейшие люди
не видят дальше сегодняшнего вечера
и не знают, что надо делать завтра, —
Ты снисылаешь мне ясную уверенность,
что Ты есть
и что Ты позаботишься,
чтобы не все пути добра были закрыты.
На хребте славы земной
я с удивлением оглядываюсь на тот путь
через безнадёжность — сюда,
откуда и я смог послать человечеству
отблеск лучей Твоих.
И сколько надо будет,
чтобы я их ещё отразил, —
Ты дашь мне.
А сколько не успею —
значит. Ты определил это другим.
ЛИСТВЕННИЦА
Что за диковинное дерево!
Сколько видим её — хвойная, хвойная, да. Того и разряду, значит? А, нет. Приступает осень, рядом уходят лиственные в опад, почти как гибнут. Тогда — по соболезности? не покину вас! мои и без меня перестоят покойно — осыпается и она. Да как дружно осыпается и празднично — мельканием солнечных искр.
Сказать, что — сердцем, сердцевиной мягка? Опять же нет: её древесная ткань — наинадёжная в мире, и топор её не всякий возьмёт, и для сплава неподымна, и покинутая в воде — не гниёт, а крепится всё ближе к вечному камню.
Ну, а возвратится снова, всякий год как внезапным даром, ласковое тепло, — знать, ещё годочек нам отпущен, можно и опять зазеленеть — и к своим вернуться через шелковистые иголочки.
Ведь — и люди такие есть.
МОЛНИЯ
Только в книгах я читал, сам никогда не видел: как молния раскалывает деревья.
А вот и повидал. Из проходившей грозы, среди дня — да ослепил молненный блеск наши окна светлым золотом, и сразу же, не отстав и на полную секунду, — ударище грома: шагов двести-триста от дома, не дальше?
Минула гроза. Так и есть: вблизи, на лесном участке. Среди высочайших сосен избрала молния и не самую же высокую липу — а за что? И от верха, чуть ниже маковки, — прошла молния повдоль и повдоль ствола, через её живое и в себе уверенное нутро. А иссилясь, не дошла до низа — соскользнула? иссякла?.. Только земля изрыта близ подпалённого корневища, да на полсотни метров разбросало крупную щепу.
И одна плаха ствола, до середины роста, отвалилась в сторону, налегла на сучья безвинных соседок. А другая — ещё подержалась денёк, стояла — какою силой? — она уж была и насквозь прорвана, зияла сквозной большой дырою. Потом — и она завалилась в свою сторону, в дружливый развилок ещё одной высокой сестры.
Так и нас, иного: когда уже постигает удар кары-совести, то — черезо всё нутро напрострел, и черезо всю жизнь вдоль. И кто ещё остоится после того, а кто и нет.
КОЛОКОЛ УГЛИЧА
Кто из нас не наслышан об этом колоколе, в диковинное наказание лишённом и языка и одной проушины, чтоб никогда уже не висел в колокольном достоинстве; мало того — битом плетьми, а ещё и сосланном за две тысячи вёрст, в Тобольск, на колымаге, — и во всю, и во всю эту даль не лошади везли заклятую клажу, но тянули на себе наказанные угличане — сверх тех двухсот, уже казнённых за растерзанье государевых людей (убийц малого царевича), и те — с языками урезанными, дабы не изъясняли по-своему происшедшее в городе.
Возвращаясь Сибирью, пересёкся я в Тобольском кремле с опустелым следом изгнанника — в часовенке-одиночке, где отбывал он свой тристалетний срок, пока не был помилован к возврату. А вот — я и в Угличе, в храме Димитрия-на-крови. И колокол, хоть и двадцати пудовый, а всего-то в полчеловеческих роста, укреплен тут в почёте. Бронза его потускла до выстраданной серизны. Било его свисает недвижно. И мне предлагают — ударить.
Я — бью, единожды. И какой же дивный гул возникает в храме, сколь многозначно это слитие глубоких тонов, из старины — к нам, неразумно поспешливым и замутнённым душам. Всего один удар, но длится полминуты, а додлевается минуту полную, лишь медленно-медленно величественно угасая — и до самого умолка не теряя красочного многозвучья. Знали предки тайны металлов.
В первые же миги по известью, что царевич зарезан, пономарь соборной церкви кинулся на колокольню, догадливо заперев за собою дверь, и, сколько в неё ни ломились недруги, бил и бил набат вот в этот самый колокол. Вознёсся вопль и ужас угличского народа — то колокол возвещал общий страх за Русь.
Те раскатные колокольные удары — клич великой Беды — и предвестили Смуту Первую. Досталось и мне, вот, сейчас ударить в страдальный колокол — где-то в длении, в тлении Смуты Третьей. И как избавиться от сравненья: провидческая тревога народная — лишь досадная помеха трону и непробивной боярщине, что четыреста лет назад, что теперь.
КОЛОКОЛЬНЯ
Кто хочет увидеть единым взором, в один окоём, нашу недотопленную Россию — не упустите посмотреть на калязинскую колокольню.
Она стояла при соборе, в гуще изобильного торгового города, близ Гостиного двора, и на площадь к ней спускались улицы двухэтажных купеческих особняков. И никакой же провидец не предсказал тогда, что древний этот город, переживший разорения жестокие и от татар, и от поляков, на своём восьмом веку будет, невежественной волей самодурных властителей, утоплен на две трети в Волге: всё бы спасла вторая плотина, да поскупились большевики на неё. (Да что! - Молога и вся на дне.) И сегодня, стань на прибрежной грани, — даже воображению твоему уже не подъять из хляби этот изневольный Китеж, или Атлантиду, ушедшую на дюжину саженей глубины.
Но осталась от утопленного города — высокостройная колокольня. Собор взорвали или растащили на кирпичи ради нашего будущего — а колокольню почему-то не доспели свалить, даже вовсе не тронули, как заповедную бы. И — вот, стоит из воды, добротнейшей кладки, белого кирпича, в шести ярусах сужаясь кверху (полтора яруса залито), в последние годы уж и отместку присыпали к ней для сохранности низа, — стоит, нисколько не покосясь, не искривясь, пятью просквоженными пролётами, а дальше луковкой и шпилем — в небо! Да ещё на шпиле — каким чудом? — крест уцелел. От крупных волжских теплоходов, не добирающих высотой, как издали глянуть, и на пол-яруса, — шлёпают волны по белым стенам, и с палуб уже пятьдесят лет глазеют советские пассажиры.
Как по израненным, бродишь по грустным уцелевшим улочкам, где и с покошенными уже домишками тех поспешно переселённых затопленцев. На фальшивой набережной калязинские бабы, сохраняя старую приверженность к исконной мягкости и чистоте волжской воды, тщатся выполаскивать бельё. Полузамерший, переломленный, недобитый город, с малым остатком прежних отменных зданий. Но и в этой запусти у покинутых тут, обманутых людей нет другого выбора, как жить. И жить — здесь.
И для них тут, и для всех, кто однажды увидел это диво: ведь стоит колокольня! Как наша надежда. Как наша молитва: нет, всю Русь до конца не попустит Господь утопить...
СТАРЕНИЕ
Сколько написано об ужасе смерти, но и: какое же естественное она звено, если не насильственна.
Помню в лагере греческого поэта, уже обречённого, а лет — за тридцать. И никакого страха перед смертью не было в его мягко-печальной улыбке. Я изумился. А он: «Прежде чем наступает смерть, в нас происходит внутренняя подготовка: мы созреваем к ней. И уже ничто не страшно».
Всего год прошёл тогда — и я испытал всё это на себе сам, в мои тридцать четыре. Месяц за месяцем, неделя за неделей клонясь к смерти, свыкаясь, - я в своей готовности, смиренности опередил тело.
Так насколько же легче, какая открытость, если к смерти медленно подводит нас преклонный возраст. Старенье — вовсе не наказание Божье, в нём своя благодать и свои тёплые краски.
Тепло видеть возню ребятишек, набирающих крепости и характера. Теплить может даже ослабление твоих сил, сравниваешь: а каким, значит, коренником я был раньше. Не вытягиваешь целого дня работы — сладок и краткий перерыв сознания, и снова ясность
второго или третьего утра в день, ещё подарок. И есть наслаждение духа - ограничиваться в поедании, не искать вкусовых переборов: ещё ты вживе, а поднимаешься выше материи. И тонкий голосок синиц в ещё оснеженном полувесеннем лесу — вдвойне милее от того, что скоро ты их не услышишь, наслушивайся! А какой неотъёмный клад — воспоминания; молодой того лишён, при тебе же они все, безотказно, и живой отрывок их посещает тебя ежедень — при медленном-медленном переходе от ночи ко дню, ото дня к ночи.
Ясное старение — это путь не вниз, а вверх.
Только не пошли. Бог, старости в нищете и холоде.
Как — и бросили мы стольких и стольких...
| |
|
| |
| Просмотров: 2695 | |