Каталог статей
У врат Царьграда …
Ниже мы впервые публикуем главу (в сокращении) из книги «Фильм русской революции: В психологической обработке» (Белград: М.Г. Ковалев (Jефименко и Мартjановиh), (б.г.). - 460 с.) выдающегося русского учёного с мировым именем, врача-психиатра, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой Мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России по расследованию злодеяний большевиков Николая Васильевича Краинского (1869-1951) (см. о нем).

Предположительно книга опубликована во второй половине - конце 1930-х гг. Название, подготовка главы к публикации - составителей (О.В. Григорьева, И.К. Корсаковой, А.Д. Каплина, С.В. Мущенко).
+ + + ГЛАВА ХХII У врат Царьграда

На якоре стоит эскадра в 120 кораблей с населением около 130 тысяч человек. Малоазиатский берег с предместьем Мода и оригинальным маяком широко купался в лучах склоняющагося к закату солнца. Мраморное море, оправдывая свое название, играло переливами цветов своей пятнистой поверхности. Корабли были изолированы друг от друга, и слухи передавались отрывочно. Население трюма нашего парохода все больше деморализовалось. Ширилась разнузданность и хулиганство. Глупые остроты, ругань, отрывок хамской песни. Трюм не отапливался и было холодно. Съедаемые паразитами люди полуголодали. Говорили о том, что «где-то и что-то» есть и что «там едят». Дикий эгоизм царил в каждом человеке. Зависть и злоба проявлялись друг к другу. Заявляли, что «на палубе у спекулянтов есть табак». - Отобрать! - вопили из трюма. Один «ахвицер» из подпрапорщиков вкрадчиво доносил: «У одного наверху есть сардинки. Надо конфисковать и разделить». А опустившийся военный врач толковал о том, как следует отобрать и разделить весь табак, ибо у него была недохватка в табаке. Выслеживали, доносили, подозревали, завидовали и вопили: - Там едят шоколад. - Там все есть, только нам не дают! - шамкал старый доктор, Бог весть почему вообразивший, что кто-то должен ему что-то давать. - Требовать! - нагло кричала молодежь. - На пароходе везут обмундирование! Раздать! - доносили третьи. Вот чем были полны думы этих несчастных людей, уже давно потерявших способность узнавать себя в зеркале и переставших понимать то, что говорят и делают. Красный Крест вез свое имущество. Все приходили к заключению: «Накрал!» Белый Крест вез белье, - кричали: «это не его!» А ведь это были люди, не приявшие большевизма. Правда, здесь было много дезертиров и уклоняющихся: они то и были главными скандалистами. В трюме поднимался гвалт и продолжался до ночи. Однажды вечером раздался крик: - Команда парохода сгружает хлеб! - Разразился скандал: «Отобрать! Отнять! Бить морду! Отнимают кусок от нас! расследовать!» Но была и частица правды в этом бреде: тащили и крали все. Выгружались с парохода и на глазах у всех тащили казенное белье. Офицеры это заметили и подняли скандал. Задержали и осмотрели вещи у молоденькой сестры, носившей громкую фамилию. Увы! Вещи целиком оказались казенными. Бойко огрызаясь, она сошла с парохода без вещей. Люди были грязны физически и разнузданы морально. Однажды на месте застали штабс-капитана, гадившего под лестницей. Он поленился подняться наверх. Весь пароход был обуян манией регистрации. Эта зараза досталась добровольцам в наследство от большевиков. По несколько раз в день составлялись списки и списки без конца. В довершение всей глупости в трюме завелась керенщина. Начались выборы коменданта. Как только выбрали коменданта, обыкновенно отъявленного скандалиста, он сейчас же превращался в деспота и требовал от других повиновения. Дух критики у него сдувало моментально.

Зато в самой эскадре был полный порядок. С первых же дней шла перегруппировка кораблей. Пароходы один за другим стали уходить по месту назначения: на Лемнос и в Галлиполи. Гражданских же беженцев принимали к себе балканские государства. Говорили сначала об Алжире, мечтали о колониях. Но все боялись англичан, которых ненавидели единодушно. На второй день стоянки эскадру объехал французский катер и отобрал оружие. Они, французы, будто бы потребовали от Врангеля разоружения военных кораблей. Но Врангель, ответил, что у него имеется по сто комплектов снарядов на каждое орудие и что он сумеет погибнуть, как подобает русскому главнокомандующему. Французы съели этот ответ и замолчали. Так стояли мы с 2-го ноября до 18-го. Погода стала холодная. В течение двух дней была мертвая зыбь. Корабли качало, а люди ругались и скандалили. Я был назначен объезжать эскадру и отбирать с кораблей тяжело раненых и заразных больных. Объезжая корабли на паровом катере, я за это время хорошо исколесил весь Босфор и константинопольские пристани. Я сдавал больных на французский распределительный пункт. Побывал в «Золотом Роге» и видел Царьград вблизи. Там было много русских. Жалкими толпами бродили они по улицам, ища приюта, были назойливы и унизительно вели себя. Я видел французские оккупационные войска. Кавалерия была одета с иголочки. Лошади великолепны.
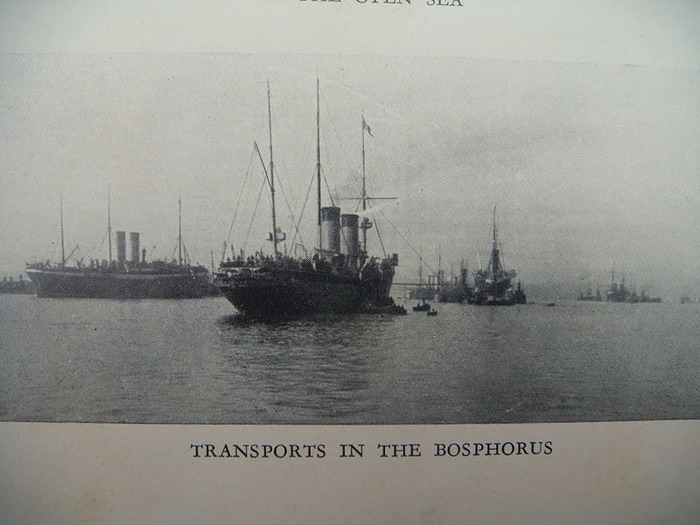
В течение двух дней во время моих странствий море сильно волновалось и было страшновато переезжать Босфор на довольно паршивеньком греческом пароходике. Возил сыпно-тифозных, а однажды у ног моих лежал больной черной оспой, которого я снял с одного из пароходов. Когда я объезжал эскадру, ко мне в лодку валили покойников. В бурную погоду катер швыряли волны, а сверху мочил холодный дождь. Я жался от холода и от брезгливости. У ног моих блевал от качки тифозный, а вправо от меня, у борта, завернутый в тряпье лежал покойник, теперь ни для кого неведомый. И каждый раз, когда мой взгляд падал на него, стеклянный открытый глаз не сводил с меня своего взора. Я глядел через него на море, на эскадру и всюду видел только гибель великой России, а за нею страдания и смерть людей. Впереди меня, у носа катера неподвижно сидела женщина с мертвым ребенком на руках. Мать везла французам труп, ища ему спокойного приюта. Я думал, что если бы море рассердившись разверзло бы свою пучину и поглотило нас всех, быть может было бы лучше. Я кончал свою работу поздно вечером и возвращался на «Ялту» в полной темноте. В дни качки приставать к трапам кораблей было трудно, и мы разбили у судов четыре трапа. Сгружать больных было неимоверно трудно. Собственно, я взял на себя эту работу потому, что сидеть на пароходе в атмосфере трюма было невесело. Безплатно никто работать не хотел, а платить было некому. Чем больше врач работал, тем больше он получал ругани и потому умно делали те врачи, которые не занимались обслуживанием больных. Клиентам же парохода гораздо больше нужны были «категории», чем медицинская помощь. И когда я был назначен председателем комиссии по осмотру больных, пошла беда. Дезертиры скандалили. Сыпались угрозы. Симулянты дерзили, когда их разоблачали. Нигде врачебная работа не была так омерзительна, как здесь. Я описываю эти мерзости здесь только потому, что если мы доживем до отрезвления, этим рассказам не поверят. Мечты людей не шли далеко, и к будущему в большинстве случаев относились с плевательной точки зрения. Впервые к нам дошли рассказы о концентрационных лагерях французов. Беженцы стремились ссадиться на берег, а там их загоняли в лагерь в Сан-Стефано, арестовывали, садили за проволочные заграждения и зуавы лупили их палками. Конечно правда, что многие русские вели себя по-свински. Но не надо забывать, что все это хулиганство и распущенность были следствием того, что их систематически морили голодом и холодом. Если хотите, чтобы люди были моральны - кормите их. Удивительно, как традиции старого режима прочно вколоченные в психику человека, держатся и управляют его действиями, независимо от его ума и воли. Сколько раз мне говорили мои коллеги-врачи: «И какого чорта вы возитесь с этим развозом больных с пароходов? Это не ваша обязанность и никто вам за это спасибо не скажет». И я проверил эти старые традиции долга и чести, которых теперь уже не существовало, на следующем случае. Во мне несомненно сидел еще человек старого режима. Как я говорил уже выше, мы все почти голодали, получая беженский паек, который едва мог заглушить чувство голода. Когда я был назначен от санитарного управления развозить больных с эскадры, мне выдали на расходы деньги, около ста турецких лир. Эти деньги были даны мне под расписку на расходы, но мне не было указано, входят ли в эти расходы траты на мое продовольствие, хотя я уезжал рано утром и возвращался поздно вечером на пароход, где брат мне оставлял осточертевшую маленькую порцию консервов и кусок хлеба. Высадившись в Константинополе и сдав больных, я испытывал собачий голод. Я видел на лотках и в окнах столовых вкусные блюда и меню, и так хотелось истратить несколько пиастров на покупку чего-нибудь съестного, а моих личных денег у меня не было ни копейки. И я все-таки побеждал этот соблазн, хотя по существу имел бы, казалось, право включить стоимость блюда в расход по перевозке больных. И все же я выдерживал характер. Новый режим его не выдержал бы. Англичане все время морили людей голодом, а потом ставили им в вину творимые ими безобразия. Когда людей не кормят, они становятся злыми - это я видел на себе. А в крайней степени голода и самый просвещенный человек крадет. В Сан-Стефано людей загнали в пустые палатки, установленные на голой земле, размякшей от дождя и люди там стояли по колени в грязи. Невозможно было лечь прямо в воду: шел проливной дождь. Бедные пленники томились, вымокнув до нитки, голодные, трясущиеся от холода. Вот она хваленая революция. Вот, что происходит, когда революция становится правительством, и когда «господа военные» начинают слушаться Савенковых и Струве, а не законного Царя. То же происходило в французских лагерях в Галлиполи. Оттуда уже «задали драпу» два бравых офицера, теперь решивших поступить на службу к Кемаль-Паше. Об этом Кемаль-Паше тогда много говорили. Мечты безшабашных авантюристов, потерявших отечество, обращались к нему. Он будто бы вербовал через своих агентов русских офицеров и платил по 250 лир в месяц. Эта служба теперь казалась раем. Все буйное и необузданное стремилось теперь туда. Когда им напоминали об армии, эти молодцы отмахиваясь руками, говорили: - Армия? Какой там! Довольно этой авантюры!.. С кораблей уходили добровольно, возражая, что горы золота свалятся на них, а апельсины сами полезут в рот. И, конечно, эти люди приходили в себя очухавшись на улицах Константинополя, безпомощные и слабые. Приходилось умолять французов принять их обратно и пустить на корабли. Не было ни понимания положения, ни серьезного к нему отношения. И это было понятно: люди годами стояли пред лицом смерти в Великой и гражданской войнах и жили сегодняшним днем. Отводили душу только в ругани и я часто спрашивал себя, что бы сталось с психикой этих людей, если бы они не разряжали своего горя и злобы в матерной ругани. Когда было хмуро небо и надвигалась ночь, когда волновалось море, мрак находил на душу людей. Страшил холод, а ведь предстояло три месяца зимы. По целым ночам люди тряслись от холода, стуча зубами. Ни сами беженцы, ни их труд не были нужны никому. Да и сами эти люди, искалеченные революцией, едва ли были способны к труду, от которого отвыкли, безпечно говорили: «не пропадем!» Но эта перспектива висела над всеми. Об общем положении европейских дел у беженцев были смутные познания. Вот, что говорили тогда: «После разгрома Крыма большевики ударят на поляков и на румын. Об этом уже ходили слухи. Раздавив этих предателей, они соединятся с немцами и победят Европу. Францию и Англию сметут с лица земли. А немцы скрутят большевиков и будут царями мира». Это записано у меня 21 октября 1920 года. Европа не понимала большевизма и из бунта, убийств и грабежей делала идейную борьбу. Как-то утром я, выпив кружку чая без сахару и съев кусок кислого хлеба, сказал брату: - А ведь привыкаешь! - Привыкаешь, - ответил он, прихлебывая из своей кружки. А эхом из темного угла корабельной берлоги к нам донеслось: - А я бы съел к чаю кусок пирога с вареньем! Рано утром я выходил на палубу встречать рассвет. На рассвете ежедневно из пролива уходили в море два английских миноносца. Медленно проявляла свою жизнь наша флотилия. Наш корабль значительно разгрузился и палуба в это время была почти пуста. Сцены внутреннего пробуждения: умывания, стояния в очереди за кипятком были стереотипны. Затем над сонным трюмом проносился скорбный вопль: - Рабочие, на кухню! Ропот и ругань в ответ. Не пойдут пока упреками и понуканиями не погонят. Бог весть откуда у поручика берется вдруг «раздробление позвоночника», и он «работать не может». На верхних нарах корнет повел неосторожно на свою соседку аттаку, без предварительной подготовки ее обстрелом. В ответ капризный мелодический голос: - Скверный мальчишка! Коменданту пожалуюсь... Я с вами не разговариваю... Какая мерзость!... «Гм... да... Повидимому залез дальше, чем следует - проворчал себе под нос полковник. Но голос красивой Ольги Николаевны звучал не слишком сердито. А перед этим слышалось шутливо: - Корнет меня бьет! Бьет ли? Любовь во мраке трюма, с пещерными нюансами! Вчера в трюме запели гимн: «Боже, Царя храни». Сколько воспоминаний для русского воина связано с этим великолепным гимном о славном, могучем государстве, с которым считалась Европа. Теперь он напоминал о великом покойнике, об усопшей мировой Державе... И... никакого впечатления! Даже не притихли, не задумались. Какой-то мерзавец насмешливо крикнул «Ура!» и какой-то большевик пронзительно свистнул на весь трюм. Так чтили прошлое Родины эти люди, за нее сражавшиеся. Прошлое валилось в бездну без дум и без размышлений. Пьют чай без сахару. Поручик безпечно напевает романс. Весело перекидываются словами. Потом едят консервы и хлеб. Всюду смех. Нигде не слышно скорби и даже о политике не говорят. - Седьмой десяток! Третий трюм: за хлебом! - слышится очередной призыв. Весь пол заплеван и забросан объедками и сором. Резонерство о том, что надо бы прибрать, не проникает в душу. Уж третий день на лестнице стоит невынесенное подкладное судно, издавая зловоние. Туда нагадил не больной, а просто ленивец. Санитаров нет, а судно само себя не вынесет. Врач, проходя мимо, скорбно думает: «Зачем оно здесь и что с ним будет?» «Что будет со всеми нами?» Отхожее место отгорожено на палубе. Но чтобы добраться до этого отделения дантова ада, надо стать в длинную очередь: направо мужская, налево женская, соприкасающиеся друг с другом. Стыдливость давно утеряна. Глупый солдат товарищ кривляется и острит: - Ой, не выдержу! Ой, наложу в штаны! А сосед вторит: «Вали на палубу!..» В глухую ночь из трюма вдруг раздавался вопль: - Что за свинство! Льют сверху! Эй, сволочи, чтобы делаете? Увы! То попадало на голову нижним... Однажды утром я пил чай и неосторожно не удержал горячей кружки, которая кубарем полетела под нары. Я нагнулся и шарил рукой под нарами. И вдруг угодил рукой прямо в сосуд с жидкостью, в которой потонула моя рука. Можете себе представить мое изумление и ужас, когда я обнаружил, что это был урильник полный мочи. Наш доктор Л. возил с собой «генерала» и даже не потрудился его вынести. Он счел за лучшее подсунуть его подальше под нары, а моя проклятая кружка словно знала, куда ей надо угодить. Уж я мылся, мылся, мыл и мыл кружку и долго потом с омерзением пил из неё чай - другого сосуда не имел. Даже теперь много лет спустя, я вдруг вспоминаю неделикатное путешествие моей чайной кружки, и брезгливый трепет всего меня передернет. Идет война нижних ярусов трюма с верхними. Если закрыть люк брезентом, в трюме воцаряется мрак и снизу звучит отчаянный вопль: - Открыть брезент! А сверху ответ: «Закрыть! Здесь холодно». Снизу: «Мерзавцы! Здесь темно. Что за свинство!» - Давайте поменяемся! Властный голос коменданта решает: - Открыть! - и страсти успокаиваются. На фоне утренней тишины вдруг с нар раздается голос Ольги Николаевны. Молодая женщина с негой потягивается и мечтательно говорит: - Хочу «загнать» кожанную куртку. Поручик, сколько дадите за безрукавку? Ха, ха, ха! Только под лиры? Не разживешься. Хочу инжиру. Две связки дадут? Что делать, хочется! Кто-то снизу дразнит: - А разве можно, Ольга Николаевна, спускать казенные вещи? Ольга Николаевна безпечно бросает ответ: - А мне какое дело? Теперь она моя, а не казенная. Хочется инжиру. И «спускали» все, что было можно. Когда мы стояли весной на «Херсоне» в проливе, турецкие лодочники скупали шинели, одеяла и меняли их на коньяк, на четвертушку табаку... Опустившийся полковник «предъявлял требования». В комиссии он возмущался, что ему не дали «госпитального лечения». Он требовал «массажа и электричества», хотя все органы у него были в порядке и врачу было непонятно, какой член тела ему надо было массировать. Теперь он возмущался: «Как? Мне не вернуть руки? Должны лечить». Не было Великой России. Не было Императора... Мы гибли. Питались подаянием и все еще воображали, что кто-то и что-то должен давать. «Но у французов ведь есть!» «Есть, да не про нашу честь», - вспоминалась пословица. Ноябрьские вечера были длинны. На нарах трюмов ютились люди, сидя на корточках и в разных позах. Кто резался в карты, кто умудрялся читать обрывок книги. Многие курили. Голые фигуры, приткнувшись к свету, вылавливали вшей. В одной из деревянных клеток трюма целыми часами возился старик доктор. Эго был отчаянный морфинист. Вся жизнь его проходила в этой возне со шприцами и пузырьками. Он то нагревал их на огарке свечки, то шарил в мешке иголки. Эта фигура гибели и наслаждения отравой была страшна даже среди всего ужаса трюма. И если не хватало яда, старик безпомощно лежал в прострации и мучился. Но много раз глубокой ночью он зажигал коптилку и снова копался в своих вещах. Потом сидел и думал... О чем? О сыне ли, расстрелянном большевиками, а может быть вспоминал времена Императорской армии, в которой был дивизионным врачом? Но вероятнее всего он просто переживал те наслаждения наркомана, которые неизвестны нам, простым смертным. Тогда он уходил из мрачной берлоги современности в тот дивный мир грез, в котором нет ни времени, ни мрачных пыток французской инквизиции трюма корабля. Ночью мы спали и спали хорошо. Но нестерпимый зуд от вшей не давал душе уйти из спящего тела: вши призывали ее назад. В сновидениях дух переносился по сценам прошлой жизни и наряжал ее в прекрасный наряд. Под утро неизменно» снились явства. На все лады грезились накрытые столы, приборы, сласти, закуски, колбаса и почему-то полупрозрачный поросенок, похожий на фисташковое желе. Все это видел дух и ел не насыщаясь, а голодное тело лежало на кровати. Наяву эти грезы были неосуществимы. И странно: большевики уже снились реже. Сказкой казались воспоминания прошлого. И если когда-нибудь Ольга Николаевна, став бабушкой, будет рассказывать об этом прошлом своим внукам нового поколения, - им эта сказка покажется слишком фантастичной. Царевнами им покажутся обыкновенные женщины далекого прошлого и призрачными героями те люди, которые, совершая легендарные подвиги на полях сражения, тогда еще не превратились в оборванцев, ютившихся на нарах трюма. Были тут разные типы: гвардейский полковник с изящной женой, похожей на куклу, безпечно распевающей шансонетки. Как только муж отвернется, она заглядывалась на поручиков. Были грубые хулиганы, были студенты, потерявшие всякий облик людей, учившихся чему-нибудь, и были настоящие бандиты-товарищи, как будто бы только что вырвавшиеся из Совдепии. Вожделениями большинства были молоко и высадка. Перед рассветом на юго-западе сиял в голубоватом свете Сириус и мягко гасла диадема Ориона. Из-за древней Халкедоны - города слепых - теперь предместье Мода, багряной полоской росла заря. Далеко справа, из Малой Азии доносился почти неуловимый знакомый гул далекой канонады. - Кемаль Паша у врат Европы. Морфинист-доктор крал у моего брата табак. Проснувшись ночью, брат видел, как старик шарил в его сумке. Он не сказал ему ни слова. А утром морфинист наивно говорил, что он не понимает, кто бы мог ночью взять у брата из сумки табак? Яд делал свое дело и уничтожал мораль. Предполагалось преобразовать судно в госпитальное и запросили, кто желает на нем служить. Я подал заявление о желании служить русской армии. Но у меня не было протекции и потому назначение мое было безнадежно. Еще одно преимущество большевиков. Там каждого человека со знаниями и работающего сейчас же использовали. Здесь же труд и знания никому не были нужны. Надо было быть «своим» и иметь связи. Там за человека знающего хватались обеими руками. Здесь важны были только оклады и штаты. Мы с братом пошли в армию, чтобы исполнить свой долг, и мы его исполнили, но связей никаких не имели и потому чувствовали себя париями. Назначенный вновь главный врач предложил мне остаться на пароходе и даже обещал назначить консультантом. В это время на пароход приехал, помощник военно-санитарного инспектора Коклюгин и объявил, что все врачи старше 43 х лет свободны и перечисляются в разряд беженцев. Так закончилась моя работа в белых армиях. В первый момент мне стало нестерпимо обидно. Так вот зачем, бросив все, с винтовкой в руках ушел я в Добровольческую армию, участвовал в боях, нес тяжелую работу врача в переживаемые ею бедствия, чудом оправился от тифа, а теперь, по чеховски: «Позвольте вам выдти вон!» Мой коллега д-р Воржоаски был назначен на пароход «Владимир», отходивший с беженцами в Сербию. Он пообещал взять меня с собою. В один миг мы с братом собрались и перешли на катер, который скоро отчаливал. Через час мы очутились на пароходе «Владимир», и я вступил в отправление обязанностей помощника д-ра Бораковского. Новая и уже последняя страница белой эпопеи. ___________ С посадкой на «Владимир» я перешел на положение эмигранта, или, как стали его называть, беженца. Психологически я ненавидел это положение и звание. Я был в армии, всегда уходил с последними, и никогда не бежал. А тут вдруг вам налепляют ярлык беглеца. На пароходе все стали теперь «бывшие». Чины гражданского ведомства с семьями и те военные чины, которые по новому приказу, как и я, остались за штатом и были перечислены на положение беженцев. Такими же стали генералы и штаб и обер-офицеры, не получившие штатных назначений. Состав публики был иной, чем на «Ялте» и более интеллигентный. Много ехало «категориков» и уклоняющихся. «Владимир» после «Ялты» казался раем. Однако я знал, что законы морального падения одни и те же и что и здесь скоро проявится знакомая картина. Волновались, опасаясь, примет ли нас Сербия. Из Румынии пришел пароход с беженцами, которых там не приняли. После длинного ряда ненужных мытарств и формальностей их посадили на пароход «Владимир». Однако не всегда же люди в периоды этих скитаний страдали. В один из дней я записал в дневнике, что мы чувствуем себя великолепно, и что настроение вовсе не унылое. Ясный день и хорошо на душе. Секрет сносной жизни при таких условиях - это отучить себя от праздных несбыточных мечтаний и обрывать надежды. Без них живется легче. А этой способностью я обладал в совершенстве. Сиди себе, как в кинематографе и созерцай. Я тогда считал все погибшим и в личной жизни полностью ушел в свои научные работы, трудясь над математической обработкой своих теорий при самых невероятных условиях. Я писал тогда: «Мне кажется, что Россия уже кончила свое существование. Она не возродится. Нет для этого ни одной здоровой силы. Интеллигенция - духовно мертва». Падала страшно и аристократия. Недавно на «Ялте» поручик граф, из «бывших» насмешил весь трюм. Внизу записывали кандидатов на обмундирование. Граф сверху во весь свой властный голос диктовал: - Запишите мне обмундирование: френч, брюки, ботинки, две рубашки и два воротничка и галстух. Всеобщий хохот - «Го-го-го!.» Давно забыли, что значит воротнички и галстух. Как дико! Какая чепуха! Так и не разобрали, шутил граф или бредил. Но не лучше была и русская демократия: она сейчас же равнялась по хаму и превращалась в хамократию. Пройдут года и в России появится новая интеллигенция - новый высший класс, рожденный в крови и взрощенный на деньги награбленные, как это случилось во Франции. Каждая мелочь обстановки будет напоминать не о подвигах предков, а о кровавых оргиях отцов и дедов. Богатство новых поколений создастся не трудом, а убийствами и преступлением. Потоки бандитов, они когда-нибудь отрыгнут забытое и как потомки римских каторжников на днестровских плавнях, расстреляют невинных. Деньги перекочуют в другие карманы, а там восстановится и прежний колорит жизни: переменятся только люди. И это будет единственный результат революции. На пароходе ехало два кадетских корпуса. Боже мой, что это были за дети! Развал коснулся и их. Оборванные, голодные, все во вшах, разнузданные, порочные, как тени бледные, и изможденные. При них персонал с семьями. К нам подошел кадет лет семнадцати, - бывший паж Его Величества. Теперь это был хулиган. Полуграмотный: он не читал даже Тургенева. Но зато имел «мануфактуру» в количестве 64 аршин. Видя кругом лишь мерзость революции, откуда могли они почерпнуть основы морали? Зато он бывал уже в боях и видел кровь. 19-го ноября мы тронулись в путь. Я был назначен врачем палубы. Но проклятое молоко и здесь мне отравило существование. Я должен был распределять пять банок на сотни жаждущих. Картины были помягче, чем на пароходе «Ялта», но суть одна и та же. Краснощекий дородный офицер пришел ко мне за молоком. Я отказал, сказав, что его не хватит детям. На это он заявил: - Тут у буржуев есть разное. Едят окорока. Надо отобрать и разделить. Так преломлялись завоевания революции в мозгах людей. Мы видели следы войны. Целые селения разрушены. Из воды торчали мачты потопленных судов союзников. Ночью ревел ветер и нас качало. Моряки определили пять баллов ветра и ожидали шторма. На Лемносе, мимо которого мы проходили, уже были русские войска. Они голодали. Англичане ушли, сжегши горы провианта, а французы еще не подвезли. Я откровенно сознаюсь, что не люблю хамье, и не раз говорил, что не стоило так самоотверженно служить этой сволочи. И все-таки ей служил, но без любви, порой с ненавистью. Гибель беженцев уже началась. В Константинополе, - так говорили - зарегистрировали массу русских женщин как проституток. Аристократия пооткрывала рестораны и самые гнусные, так называемые «комиссионные магазины», в которых за гроши скупали у голодающих беженцев вывезенные вещи. И этим занимались жены генералов и аристократия. Бывшие сановники нанимались в швейцары. Изящная барышня старого режима в кабаках «принимала» гостей и пила с ними шампанское. Несколько сот офицеров записались в Америку, где грезились им золотые горы.

Недалеко от нас на палубе сидел моряк, капитан второго ранга. С ним была супруга и ребенок. Женщина обрюзгшая, вся похожая на обрубок. Но в безобразном теле была еще худшая душа. Она скандалила, дико вопила, нисколько не стесняясь окружающих и закатывала сцену мужу. Злилась, поминала чорта и мрачно грозила ребенку: - Лежи! Не раскрывайся, простудишься, умрешь! Столько злобы и раздражительности было в её голосе. Огрызалась на мужа. Волны хлестали о борт корабля, обдавая холодной влагой шквала, но меня больше резали слова отвратительной мегеры, чем рев бури. Другая дама командовала, повелевая мужем. Где-то в темноте затерялся ночной горшок. Все всполошились. Вспомнили и шапку невидимку и спиритизм. Много говорили о значении «генералов» в жизни общества; а на следующий день при свете дня увидели, как «генерал» спокойно почивал, уютно примостившись у постели девочки, которой служил. Шторм бушевал. За бортом море кипело и белой тенью проносилась пена на гребне волн. Ветер гнал нас в спину и даже мало качало. Заснули и ночь прошла без времени. 23-го ноября мы вышли в Ионическое море. Море безпорядочно волновалось. Я думал, что и в волнах революции порядка не больше. Ко мне явились два вольноопределяющихся, оба испитые, истасканные. Один трясся знакомой дрожью ложноконтуженного, на самом деле от слишком большего страха, и искусственно заикался, являя знакомый тип дезертира. Они требовали молока, злобно говоря: - Генералам и полковникам дают... «Ахвицер» из прапорщиков роптал, что «крант» не открывают и не «пущают» воду. С нами ехал известный растлитель России, поп-разстрига, Григорий Петров с своей «женой», девицей Зинаидой Красновой и ребенком. Когда-то, в девяностых годах, он пошел по стопам о. Иоанна Кронштадтского и стал популярен среди народа. Но потом сблизился с интеллигенцией, и свернул на лево. Стал модным среди интеллигенции, скоро впал в ересь и перешел на службу предреволюционных сил. Теперь революция его выкинула. Он потерял и Бога Небесного и своих богов земных, которые его вышвырнули в изгнание вместе с «золотопогонной сволочью». Когда-то он был модным проповедником, и его звезда сияла у предшественниц поклонниц Распутина. Он пошел против правительства и стал модным в либеральной прессе. Потом он расстригся и ездил в Америку, подготовляя общественное мнение к русской революции. Теперь он влачился беженцем с остатками разбитых врангелевских войск. Вид его жалкий, озлобленный - впрочем, все мы были тогда озлоблены! - Выглядел стариком, уже с седою шевелюрой, по мужицки подстриженной в скобку. В поддевке. Так и пахнет эсэром. Эти люди сами кладут на себя клеймо в своей внешности. Отношение к нему было неопределенное: он пережил свое время. Теперь он пристроился воспитателем к корпусу. Эго похоже бы было на веяния вождей белых армий. В хорошие дебри заведет он русских юношей и хорошие семена посеет этот расстрига! Многие называли его лжецом и уже раскусили эту фигуру. Кто-то сказал ему на пароходе! - Мы, слава Богу, едем благополучно! Разстрига горделиво и злобно возразил! - Бог такими пустяками не занимается. Его роль кончилась, хотя он все еще позировал, не получив уважения у пароходных обитателей. Мы направлялись в Катарро, но вечером разнеслась весть, что едем в Бакар, на 300 миль севернее. Но русский человек не был силен в географии Адриатического моря. Все думали, что в «Новой Сербии» молочные реки и медовые берега. Заглядывая в свою душу, я иногда приходил в ужас от того страшного опустошения, которое в ней произвела революция. А ведь когда-то я был очень популярным врачем с громадной практикой и ученым, имя которого было известно во всем мире. Как зеницу ока хранил я в течение всей жизни несколько документов, между которыми были приговоры казачьей станицы и волостного схода Старобельского уезда, в которых описана деятельность тогда молодого врача, и несчетное число адресов моих сослуживцев и подчиненных, вырисовывавших эту деятельность в самых лестных красках. Было время, когда население в буквальном смысле слова носило меня на руках. Это были ведь не аттестации начальства, а подлинный глас русского народа, которому я служил. Теперь я служил тому же народу, потерявшему себя в недрах революции, как потерял себя теперь и я. Подвиг тогда, - когда существовала великая Россия, - был наслаждением. Душа действительно была полна любви и жалости. Теперь подвига не было, а была одна лишь мука выполнения тяжелого долга. Порой душу охватывала злоба и ненависть. И если бы надорвалось последнее наследие, которое оставила в душе старая русская жизнь, - сознание долга - исчезло бы все то, что отличает человека от зверя, в которого все превращались кругом. И я написал в своем дневнике: «Лучше было бы не дожить до такого перелома». В трюме корабля, набитого людьми, умер человек. Завернули труп в саван и на веревках подняли на палубу. Не затихли разговоры в трюме, не почтили покойника молчанием, - валялись на койках задравши ноги кверху, сплевывали курево и равнодушно глядели на качавшуюся в воздухе фигуру, еще недавно бывшую человеком. Хохотали ночью, когда, зацепившись за барьер, покойник страшно качнулся в воздухе. Смерть... Сколько уже погибло! За годы скитаний поток людей передвигался, как целое. Те же люди встречались на Мазурских озерах, в Вильно, в Киеве, потом в Константинополе и на чужбине. Так, несет поток свои поплавки, а физик судит по их движению о направлении и скорости потока. На пароходе как-то поймали вора, вырезывавшего дно в чемодане. Его избили до виртуозности. Но этим дело не кончилось. Одни говорили, что его сбросили в море, другие, что он бросился сам. Он долго барахтался там и ревел. Его вытащили испанцы с соседнего корабля. Все громко радовались, что негодяя чуть не убили и жалели, что его вытащили. Глядя на эту картину, я понял, что значил описанный Густавом Эмаром суд Линча. Ведь в те времена Америка переживала тот же хаос. В этой бродячей жизни, при анархии и прелестях социализма, где не существует власти, возможен лишь один суд с мерзавцами: расправа на месте. Иначе жизнь станет сплошным ужасом. Ко всем бичам еще это воровство. А воры требовали к себе гуманного отношения. Они содержались под караулом на палубе. И когда их мочил пронизывающий дождь, арестованные воры заявляли протест. По праву арестанта они требовали себе крытого помещения. Я, как палубный врач, сам помещавшийся на палубе под открытым небом, был вызван для решения вопроса, надо ли перевести мерзавцев в каюты, вышвырнув оттуда честных беженцев. Нужно ли говорить, что я на это не согласился. Во всем этом аде была одна каста людей несших возмездие справедливо: это были либеральные общественные деятели, создавшие революцию. Увы! Они не понимали своих прегрешений и не узнавали дело рук своих. Накануне февральских дней 1917 года я ехал в поезде с председателем Переяславской земской управы, Гамалеем. Он ораторствовал, что скоро настанет рай и прекратится распутиниада. И через неделю белоснежная революция началась с того, что его латифундию разнесли в дребезги. И с тех пор я больше не слыхал о жаждавшем революции помещике. Теперь они были презренной кастой буржуев и часто подделывались под пролетарское происхождение. Они терпели и все еще бредили царскими жандармами и городовыми. В начале революции они думали, что им вернут их имения, а мой фельдшер однажды смачно показав трехперстие пророчески сказал: - Кукиш, с маслом! Часто говорили про одного из героев революции - Гучкова. Его все презирали. По лицу его не раз гуляла рука русских офицеров, но другая группа изменников из генерального штаба волочилась за ним. Хамы давно научили русского интеллигента тому, что дуэль есть глупость. Гучков не дворянин и в пощечине по существу нет ничего символического. Смаковали, когда рассказывали, как ему «побили морду-. Я не стану описывать красот и суровости моря, его прекрасных берегов. Они не гармонировали с душой отверженных. Красоты природы может увидеть каждый человек всегда. Омерзение же революции во всем её ужасе видят на протяжении веков не многие. Против нас на палубе дама «из общества» выбирает вшей на своей рубахе и щелкает их. Поднимая руку, она тщательно перебирает её складки. Она не смотрит кругом и думает, что ее не видят. Против нас сидел товарищ прокурора и желчно поносил Императора Николая Второго. Глупый и наглый товарищ прокурора, бывший член следственной комиссии. Это почти чистый революционер. Придирчив, постоянно входит в конфликты. Пишет дневник. Хотел бы я взглянуть на эти строки. Душа его - кривое зеркало. Он тоже щелкает вшей, бросая их прямо на соседа. Тот взмолился: - Ну, прокурор, это оставьте, щелкаете и бросаете прямо на меня. - Вот странно, - огрызнулся прокурор, - нельзя даже смотреть на свою собственную рубашку! У меня их нет. - Ну, положим, есть у всех! Пожалуйста, бросайте не на меня. Пререкания. Вчера этот, с позволения сказать, прокурор плюнул прямо на палубу у самого нашего изголовья и не мог понять, почему это нам неприятно... - Ведь не на вас же! Еще бы, этого не доставало. Он пояснил: «Плюнул и растер». Несносная собачка Лю-лю, паршивый пёсик, был членом нашей компании. Ни породы, ни красоты. По утрам он забавляется с кадетом и лает, раздражая кругом людей. Когда же в людской берлоге люди мирно валяются в разных позах, пёсик невзначай подкрадется и... подняв ножку поведет себя ой, как неприлично... на одеяло или на корзинку с провизией. Хозяйка посылает мужа водить пёсика гулять... Куда? На палубу к другим. Рядом с нашим местом стоит клетка с курами и с петухом. Петух поет, и говорят, что это «на погоду». И петух был прав: буря стихала и небо прояснилось. Собачка, две дамы, полковник гвардии и три хама-товарища, чистых большевика! Компания! Чорт знает, что за симбиоз! Полковник везет их с кубанского похода. У «товарищей» вид скотский. Даже вольной птицей не гуляет мысль по их тупым лицам. Они лежат, спят и жрут. В свободное от пищеварения время - молчат. Лежат все в ряд. Полковник-аристократ с ними на равной ноге. И если надо сходить за чаем, хам говорит, что очередь полковника. Скот и культурный человек слились в одно. А корень вещей в том, что вместе крали. Вывезли десятки тюков: консервов, сала, сахару. Все можно было тогда брать и все это оказывалось общим. Столовой ложкой товарищ лезет в мешок с сахаром и валит в кашу. Лица каменные. Крутят папироски и, зажав нос двумя пальцами, смачно сморкается тут же на мешки. Полковник словно не замечает. В этой группе нет голодовки: услаждаются с утра до вечера и с вечера до утра. Привезли на пароход мясные туши и хлеб. Чтобы голодная толпа не расхватала, сгружали поставив охрану. Но все-таки один полковник стащил кусок сырого мяса. Голод был людям не в моготу.<...> Мы уже несколько дней стояли в бухте Бакар и готовились к высадке. Опять безконечные списки и регистрации. Палубные беженцы ненавидели каютных. Зависть клокотала в душе по отношению ко всякому, кто захватил лучшее место. Однажды десятилетний мальчик заявил: «Лучше смерть, чем такая жизнь». <...> Из казней революции стоит упомянуть еще о крысах. На всяком пароходе их тьма, и моряки с ними сживаются. По ночам они бегают по спящим людям, но их не обижают. Как-то ночью мне на голову скакнула крыса. Я только потом сообразил, что это была крыса, а в момент её скачка я даже не почувствовал недовольства на обидчицу. Но что значили крысы и вши по сравнению с той нравственной пропастью, в которую свалились люди? <...> Я вспомнил сцену воровства на «Ялте». Темной ночью я вышел на палубу и созерцал звезды. Вдруг слышу у самых моих ног отчаянный вопль: - Господи! Грабят! Он схватил мой чемодан и бежит! Вон он! Задержите! Я бросился по скользкой палубе в полном мраке за вором, крепко схватил его за шиворот, когда он по лестнице уже спускался в трюм. Ночью меня по тревоге вызвали на палубу к корме. С лестницы упала женщина. Около неё, лежавшей окровавленной и без сознания, толпились люди и суетился ревнивый муж Любочки, ушедшей после сцены ночевать на корму. «Господи! - подумал я, - неужели, это Любочка проделала такую штуку». Теперь муж струсил, каялся за сцену и робко звал ее. Так часто супруги, наскандалив, начинают опасаться, как бы другой не сделал с собой чего и трусят, не спят и волнуются. Растолкав толпу, я наклонился над женщиной. Сначала мне самому показалось, что это Любочка, но присмотревшись ближе, я сказал ревнивцу мужу: - Да что вы? Это вовсе не она. Он стушевался смущенный и довольный. Судьба чужой женщины его дальше не интересовала. Суетились кругом без меры. Каждый советовал, кричал «воды!» Я осмотрел больную. Серьезных повреждений не было. Разбита была губа и бровь. Теперь появился настоящий муж. Он выл, как пес, и раза два назвав жену ласкательным именем, вдруг забезпокоился и стал кричать: - Сволочь! Позанимали каюты, а я на палубе! Вот так штука! Не о том скорбит, что ушиблась жена, а о том, что другие позанимали лучшие места! Злоба к другим, ненависть и зависть. Не важно, что человек испытывает лишения, а важно то, что где-то в каютах есть люди, устроившиеся лучше. Когда женщина пришла в себя, поднялась забота вовсе не о подаче медицинской помощи, а о том, как бы использовать положение и вышвырнуть из кают-кампании других, а раненую туда вместить. - Там мужчины, все здоровые! кричали женщины. - Согнать! Пошли в атаку на кают-кампанию. О, Боже, что там было! Помещение, когда-то приличное, теперь было мрачным, полутемным. Все сплошь: столы, диваны, пол были завалены телами спящих в повалку. Скорчившись сидели фигуры на стульях в невероятных позах. Все было тихо и неподвижно. Тяжелый, спертый воздух висел над ними: даже смрад его не обонялся. Муж упавшей женщины вел ее за собой, протискиваясь вперед. Он громко требовал, чтобы дали место. Доброй волей не уступит никто. В ответ гробовое молчание. Злобно с просонку глядят на вторгшихся. Делают вид, что не слышат и что это их не касается или притворяются спящими. А втихомолку каждый думает: «Почему же я? Пусть место уступит другой». Справа пошевелились и дали больной место на полу. Так нет же: муж настойчиво требовал место на диване. Я посмотрел туда и ужаснулся. На диване в полутьме сидела старуха, когда-то дама из культурного общества. Растрепанные клочья седых волос белели в полумраке и на меня глядело страшное изможденное страданием, лицо с свинцовым взглядом. В нем было столько отчаяния. Она сидела радом с девочкой, а дальше, чернели еще тела людей. - Помилуйте, нас трое на одном месте в сидячку, безнадежно стонала старуха. Кругом молчание и это молчание было страшнее слов. Мне стало страшно за человека и моя злоба и ненависть к искалеченным людям сменилась безконечной жалостью. Я видел много горя и страданий, но этого я еще не видал! Человек... Да и существовал ли теперь человек? Низкие инстинкты... Право на жизнь... Я уложил больную. Ушел я после этой сцены прежним человеком. Я перестал ненавидеть людей. Сердце сжималось от горя за этих несчастных. И мне стало ясно, что не они виноваты в своем озверении. Вот она лучезарная революция. Вот реализация вожделений господ Милюковых и Струве. От печали и страданий людских я ушел в мир сонных грез. Там отдыхал я от горя человеческого. Если сатана хотел придумать ад со всеми его ужасами, то ему надо было бы поучиться у творцов резолюции. Когда «Буревестник» Горького летал над русской землей, он лгал, сворачивая слабые мозги предреволюционной интеллигенции. И, только пережив и видев все эти картины, можно понять истинное, лицо революции, а поняв - возненавидеть революцию так, как ненавижу ее я. 2-го декабря по старому стилю мы вырвались из железных объятий парохода. Так кончился первый этап послереволюционных мытарств, и вместе с ним окончательно закатилось солнце земли русской. Мы превратились из граждан великой державы в презираемых всеми беженцев. И долгие годы с печатью Каина мы несли свой крест. Первое приветствие, которое я услышал от местного крестьянина в эмиграции: - «А, это врангелевцы! Е... их мать!» Это было благословение на полную морального ужаса и непрерывных унижений новую жизнь. Жизнь не русского гражданина, а безправного живого существа, заклейменного печатью злейшего врага России Фритиофа Нансена.
| |
|
| |
| Просмотров: 648 | |